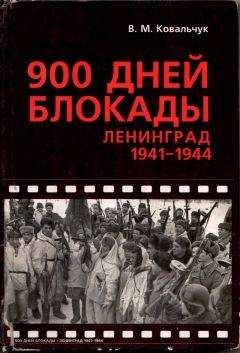не успокоило зудящую кожу. Выбрался на сушу. Кружилась голова, тело жарко пульсировало, будто я окунулся в прорубь.
Никто не возвращался. Солнце ушло за гору, склон сразу потемнел, поблекла нежная морская бирюза. Луна все явственнее проступала в сером небе, белый ее призрак наливался желтизной. Далекой блесткой подмигивала Венера.
Я достал часы, глянул на всякий случай. Они показывали начало десятого. Чудаковатые часы вышли из спячки и нагнали упущенное время. Или они не останавливались…
Я второй раз приложился к канистре и наполнил мою флягу. В рюкзаке завалялась случайная консервная банка скумбрии. В блокноте на последней страничке я написал чернилами послание дикарям: «Ребята, взял у вас воды, простите, что без спроса», оторвал листок и придавил консервной скумбрией, чтоб не улетел — не бог весть какой, но все ж таки калым…
Я помочился в море желтым лунным светом. И отправился наверх, искать себе ночлег. В степной траве, среди полыни и шалфея я надул упругий матрас, прикрыл его парусиной. Горячей рукой в два счета дописал четверостишия — початое и новое.
Слетел нежданный серафим,
И задавал свои загадки.
Их смысл, кажущийся гадким,
По сути, был неуловим.
Слова звучали, как шарманка,
И открывали взгляд на мир.
И хлопьями летела манка
Из голубых вселенских дыр.
Без интереса и души водил пером, зная, что это поэтический послед прошлой жизни. Мне было чудно и одиноко. Я ощущал необратимую органическую перемену.
Я понимал, что со мной теперь навеки сияющий огненный полдень, железный треск цикады, глазастые собаки, фамилия мертвого капитана и нечистые ногти маленького горбуна.
Заранее грустил и тосковал, что с этой звездной ночи я буду только остывать, черстветь, и стоит торопиться, чтобы успеть записать чернилами все то, что увиделось мне в часы великого крымского зноя.
Сердце изболелось, глядя на Марину Александровну и Вадима Рубеновича.
У летнего кинотеатра сцена фактически отсутствовала, только коротенький выступ, похожий на обиженную нижнюю губу — точно кинотеатр вот-вот расплачется, — поэтому к этой выпяченной губе специально пристроили подмостки и две фанерных кулисы.
На Марине Александровне были холщовые шорты на косой помочи, поверх родной прически — зеленый поролоновый ирокез.
— Слушайте новости! Свежие огородные новости! — выкрикнула деланым мальчишеским голосом.
— Ах, зачем ты так шумишь, невоспитанный мальчишка?! — подхватил реплику Вадим Рубенович.
К подбородку он приладил седой козлиный локон, а на переносицу самодельное, из проволоки, пенсне. Халат и шапочка были поварские. Чтобы превратить их в одежды сказочного лекаря, на шапочке губной помадой нарисовали жирный крест.
— И где ты только вырос?
— На грядке, синьор! Разве вы не узнали меня?! — Марина Александровна прибавила задора.
— О, конечно же, узнал! — лукаво отозвался Вадим Рубенович, профессионально повернувшись к зрителям. — Достаточно взглянуть на твою головку-луковку!
Марина Александровна была за Чиполлино, а Вадим Рубенович, стало быть, изображал Айболита. Это все называлось «затейничество». Два сказочных персонажа в течение полутора часов занимались групповым развлечением отдыхающих малышей — песни, пляски, конкурсы с копеечными призами.
То есть Вадим Рубенович, к примеру, играл на аккордеоне, а Марина Александровна пела игрушечным дискантом: «А‑а‑блака-а‑а, белогривые ло-ша-а‑а‑дки!»
Главное, чтобы дети подхватили песню. Марина Александровна для этого делала такие приглашающие движения руками — мол, давайте, все вместе, хором: «А‑а‑блака-а‑а‑а…»
Или конкурс. Чтение стихов. Любых, кто что вспомнит. Искусство Марины Александровны заключалось в умении обнаружить потенциального добровольца, а потом заманить его на сцену…
В пионерском лагере «Дельфин» вместо настоящих малышей администрация согнала подростков. Бессовестных, шумных, омерзительного пыльно-копченого цвета — июльская смена подходила к концу. Похожие на павианов, они по-собачьи улюлюкали и не желали участвовать и подпевать. Я смотрел на Марину Александровну и Вадима Рубеновича, испытывая чувство беспомощного стыда.
Я сошелся с паяцами неделю назад. Приехал, изнуренный удушливым плацкартом. Крымский зной оглушил. Я снял втридорога комнату в крепких кулацких хоромах из песчаника. Панцирное ложе было продавлено и больше напоминало гамак. На полдня я забылся обезумевшим сном. Очнулся, вконец угоревший, поплелся к морю.
Мое северное туловище под солнцем казалось мне даже не белым, а ливерно-сырым. Я застеснялся самого себя и пошел искать укромное место. Вначале шел через раскаленную толпу по набережной, мимо дышащих мясом и тестом лотков, мимо скрипучих причалов, мусорных баков, набитых выеденными арбузными черепами. Воздух от жары дрожал и звенел. Пахло водорослями, кипарисами, жареной осетриной и общественными уборными.
Наконец, асфальтовая тропа скатилась под гору, растворилась среди камней. В вышине, похожая на шахматную ладью, желтела античная руина. Рядом переливалось кварцевыми искрами зеленое пышное море.
— Эй! Молодой человек! Вы сгорели! — крикнула мне Марина Александровна. — Немедленно сюда! Тут за камнем тень!
Я пошел на зов. Старался смотреть не на Марину Александровну, а вокруг. Всю ее ладную фигурку покрывала высохшая глина цвета нежной патины. Миниатюрные грудки были размером с крышку от заварного чайника. Низ живота заканчивался волнительной эспаньолкой. У керамических ног Марины Александровны сидел глиняный, как голем, худой и голый Вадим Рубенович — улыбался. Так мы познакомились.
Вадиму Рубеновичу было сорок лет, Марине Александровне тридцать шесть. Жили они вместе восьмой год, но только в этом апреле расписались — молодожены…
Вадим Рубенович, сколько себя помнил, работал в самодеятельности, Марина Александровна раньше отплясывала в народном коллективе. Подружились они здесь, на отдыхе, подумали и соорудили три программы: детскую, взрослую — всякие юмористические сценки, — и певческую — романсы, песни из репертуара Никитиных…
— Мишенька, я видел, как вы за нас переживали, — Вадим Рубенович поливал из рукомойника свою лысую, как пешка, смуглую голову. — Вам кажется, что мы оскорблены, унижены… Это неправда. Взгляните на ситуацию по-другому. Мы три месяца проводим на море, отдыхаем и при этом зарабатываем неплохие деньги. А на всяких оболтусов внимания не обращаем. Да, Мариш?
Мы встречались на камнях каждое утро. Паяцы так потешались над моими плавками, что на второй день я отважился и снял их, плавки. Затем позволил Марине Александровне обмазать себя глиной, превратить в истукана.
— Мишулечка, — щедро восторгалась Марина Александровна. — Какое же у вас красивое тело! Аполлон! Аполлон!
— Вы тоже очень красивая, — хвалил я Марину Александровну. Стройные балетные ноги, пожалуй, выглядели излишне крепкими, громоздкими. Вообще, нижняя часть Марины Александровны была словно на размер больше верхней ее половины. Но в целом она выглядела хорошо. Белозубая, зеленые, цвета крыжовника, глаза.
Мне было двадцать два года, и немолодые паяцы взялись опекать меня. Подкармливали абрикосами, грушами, виноградом. Ночами провожали до калитки — я расточительно поселился рядом с морем, а они снимали где подешевле — экономили.
По утрам Вадим Рубенович уплывал на крабовую охоту,
![Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме [Сборник] - Андрей Георгиевич Битов](https://cdn.my-library.info/books/397705/397705.jpg)